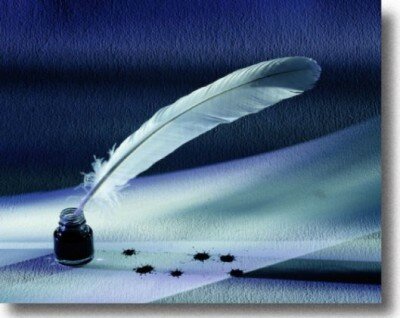
ВАЛЕРИЙ МОГИЛЬНИЦКИЙ, писатель
В этом году Дмитрию Васильевичу Оськину было бы 85 лет. В 1958 году он приехал из Москвы на строительство Карметкомбината. Вначале работал просто каменщиком, затем определился лидсотрудником в газету «Строитель». И уже в 1964 году написал документальную повесть «Вижу солнце» о строителях Темиртау, которую выпустил в знаменитом Московском издательстве «Молодая гвардия».
Казалось бы, все просто – написал, издал… Но путь к первой книге для Дмитрия Васильевича был нелегок и не прост. Московский писатель Илья Зверев в предисловии к ней пишет: «Автор, герой «Дневника», будучи и каменщиком, и бригадиром, и журналистом, и опять каменщиком, все время в борьбе. Весь его опыт, небольшой, но не легкий (а в таких случаях второе «не» обязательно перетягивает!), свидетельствует: быть борцом – задача для сильных, щедрых и храбрых. Но только таким и стоит быть».
Оськин, действительно, зарекомендовал себя борцом за светлые идеалы, за правду и справедливость. И вдохновляли его в этой борьбе образы Павла Корчагина и молодогвардейцев.
О молодых строителях Магнитки сейчас кое-кто пишет, что, мол, они все за длинным рублем в Темиртау приехали. А ведь это неправда! В своей книге «Вижу солнце!» Оськин дает эпизоды, из коих следует, что молодые большей частью приезжали на большую стройку по идейным мотивам, они — полноценные наследники идей Павла Корчагина, молодогвардейцев. Их образы они носят с собой не только в памяти, но и в сердце.
Первостроители без нытья и тоски преодолевали трудности и невзгоды, голод и холод, трудились с необыкновенной отвагой и мужеством. Их в этом поддерживали наставники, старшие товарищи. С огромной симпатией Дмитрий Оськин рисует в своей книге ветеранов стройки Укена Турмагамбетова и Ивана Степановича Яблочкина. С 1935 года не разлучаются эти два совершенно разных по характеру человека. Вместе они строили Балхашский медеплавильный завод. С 1942 года – на строительстве Казахского передельного металлургического предприятия, который в декабре 1944 года накануне года Победы дал первую казахстанскую сталь. И вот теперь возводили Казахстанскую Магнитку, ее цехи и домну, стан холодной прокатки «1700»…
Конечно, книга «Вижу солнце!» удалась, иначе ее не издали бы в «Молодой гвардии». Но Дмитрий был недоволен, считал, что ему не хватает писательского мастерства. И он поступает на заочное отделение Московского Литературного института имени А.М. Горького.
Институт институтом, но надо было хорошо зарабатывать на жизнь. А это не всегда удавалось. То кирпичи вовремя не доставят, то раствора нет… Сиди, кури! Другой бы от тоски удавился, но только не Дмитрий Оськин. Это «пустое» время он как раз научился использовать с пользой, еще работая над книгой «Вижу солнце!». Забьется где-нибудь под кустом сирени и пишет «Дневник». А тут еще его в рабкоры газеты «Строитель» окрестили, удостоверение соответствующее выдали. И надо было оправдывать доверие журналистов – писать заметки, корреспонденции, даже фельетоны. Этот период творчества Оськин назвал «сиреневым», ибо на всю жизнь запомнил запах сирени, под кустами которой устраивался на деревянный ящик и писал в газету. Именно в те годы стали называть его народным заступником, ибо он живо реагировал на жалобы людей, громил начальство вдоль и поперек. Его друг Константин Агарков передал ему материалы о том, что начальник строительного управления Бадиев приписывал себе и получал огромные премии. Так, только 2 апреля он присвоил почти три тысячи рублей за сдачу жилья, за экономию материалов, за снижение себестоимости. И так поступали другие управляющие СУ. Оськин на основе этих фактов написал и опубликовал фельетон «Осиное гнездо». Попало в руки Оськина письмо рабочих, в котором они сообщали, что в клубе 99-го квартала киномеханик прикарманивает себе деньги за билеты… Оськин проверил факты – и опять фельетон! На базе ОРСа, чтобы скрыть хищения, решили закопать в яму якобы сгнившие мясо, пельмени, арбузы, виноград. Но сделали это для отвода глаз – основную массу продукции уже продали на рынке, а деньги поделили. Оськин опять сочиняет хлесткий фельетон в газету.
Строители читают – возмущаются. А тут, как назло, в палаточный городок перед обедом машины привезли воду – мутную, какого-то странного цвета, с вонючим запахом. Пятитысячный палаточный городок вмиг поднялся на ноги, толпа направилась к тресту, люди требовали, чтобы к ним вышли руководители, но те, как говорится, «спрятались в окопы».
На следующий день толпа бунтовщиков направилась к горкому партии, но и там никто не вышел к людям. Нашлись провокаторы – стали громить овощные палатки, воровать капусту, картошку, свеклу, разгромили винный магазин, растащили промтовары…
Так в 1959 году начался знаменитый бунт строителей в Темиртау. ..
Позже, когда Оськина исключали из партии как диссидента, ему припомнили его злые фельетоны, даже сказали, что именно они послужили той искрой, что разожгла пламень бунта. Ну, хорошо, бунт затих, рассуждали чиновники, приехал Леонид Ильич Брежнев, во всем разобрался, виновных во всем руководителей наказали, снабжение водой, продуктами наладили, даже красной и черной икрой стали кормить рабочих. Казалось бы, Оськину пора угомониться со своими фельетонами, не чернить Всесоюзную стройку, а, как говорил Есенин, «писать про рожь, а больше про кобыл…» Но нет, опять он за свое взялся – строчит критические статьи о беспорядках на стройке, даже письмо об этом Никите Сергеевичу Хрущеву написал.
И своего «добился». С его злополучным письмом на стройку приехали товарищи из обкома партии. Один из них спросил Оськина:
— Зачем ты сочинил это письмо? Неужели думаешь, что Никита Сергеевич нуждается в твоих советах?
Второй сказал:
— Ты – диссидент!
Так с легкой руки партийных чиновников области Оськина стали называть диссидентом. Он посмотрел в словарь, что же означает это слово? Оказывается, инакомыслящий, отступник. Ну что инакомыслящий – это ясно, понятно, все поэты, писатели мыслят несколько иначе, чем обычные люди, оригинально, иначе какие же они служители пера? А вот что касается отступника, от чего же он отступил? От Конституции, марксизма-ленинизма? Да нет же – опять же отступил от стереотипа, от нормы, казарменного мышления… Было это в 1964 году, как раз в этот год вышла книга «Вижу солнце!». К тому времени в СССР началась активная борьба с инакомыслием, ибо уже столько этих правдолюбцев развелось, что, того и гляди, государственный строй развалят. Несмотря на хрущевскую «оттепель» в исправительно-трудовых лагерях находились более трех тысяч заключенных, которых обвинили в антисоветской пропаганде и агитации. Москва занималась диссидентами, как в былое время врагами народа. Это – Москва. А на местах? И на местах — пытались выискивать диссидентов.
Сегодня усилия Оськина вылечить советскую систему критикой видятся обреченными на неудачу, как Сизифов труд. Ничего кроме озлобления его публикации не вызывали. Они даже не обсуждались на заседаниях парткомов, «герои» его фельетонов не получали никаких наказаний. Их даже жалели, а Оськина партийные работники называли немилосердным. Партия тогда уже не исследовала и не поддерживала оздоровительную силу критики в целях проветривания загнивающего общества. Наоборот – она затыкала рот каждому, кто хотел глотка свободы, кто боролся с темными явлениями общества. Плюрализм и прозрачность в работе руководящих кадров отсутствовали.
Жизнь Оськина была сорвана с привычных якорей, несмотря на выход замечательной книги «Вижу солнце!» в Москве в «Молодой гвардии». Дмитрия стали теснить на работе, его перестали публиковать в местной печати, даже в телеочерке о бригаде строителей его лицо «вырезали». На него завели персональное дело в обкоме партии. Он продолжал работать на строительстве мартеновского цеха, а на него партийные бюрократы подбирали черные факты. Бригадир Кныш втолковывал ему:
— Душа у тебя чистая, но зачем же писать правду? Ты пиши про нас, что мы в обеденный перерыв читаем материалы Пленума… Смекнул?
13 октября состоялось собрание коммунистов первички. И Оськина исключили из партии. И представьте себе: единогласно. Даже друг его – бригадир Кныш говорил ему на собрании:
— Почему ты видишь в жизни только плохое? Ты – диссидент. Тебя надо в Америку выслать.
Почему так произошло? Потому что исключали Оськина по команде «сверху», чтобы не охаивал Всесоюзную стройку. А то, что на этой стройке продолжали процветать приписки, штурмовщина, воровство и казнокрадство – вроде никому до этого дела нет. Только после исключения из партии Оськину люди все равно руку тепло жали и шептали:
— Ты борись, борись, за всех нас борись.
Но одна беда не ходит. Переживая остро трагедию Оськина, его беременная жена родила… мертвого мальчика… Кто за это ответит? Слезы Дмитрия капали на маленький гробик, в который положили завернутого в простыню младенца… Он потерял сына.
Дмитрию понадобилось два года, чтобы его восстановили в партии. Он послал апелляцию в ЦК КПСС на имя Брежнева на 18 страницах, его друзья из бригады тоже написали в ЦК о том, как несправедливо поступили с ним. Все эти два года боссы треста издевались над ним, как хотели, низвели до разнорабочего, выжили из Доменстроя. Его в какой-то мере раньше защищал партийный билет. Он даже давал ему силы для борьбы с казнокрадами, очковтирателями, разными негодяями, которые занимали большие посты. Ибо Оськин верил, что партия создана для народа, что она будет защищать интересы простых людей.
Лишившись партбилета, он потерял не только бригадирство, но и право критиковать, писать в газеты. Осознавать это было мучительно. На глазах друзей он сломал свою авторучку и бросил ее в корзину для мусора, правда, при этом крикнул: «До лучших времен!»
Он не ожидал, что эти лучшие времена все-таки наступят быстрее, чем он думал. В январе 1966 года его вызвали в ЦК КПСС, в Комитет партийного контроля, восстановили в рядах партии. На память об этом событии Дмитрий купил себе в ЦУМе новую авторучку с золотым пером.
Когда приехал в Темиртау, в парткоме ему вручили партбилет и сказали:
— Извини, мы погорячились.
Всего-то? За все страдания, муки, что выпали на его долю?
Я встретился с Дмитрием Васильевичем Оськиным где-то в 1988 году в Караганде. Он выглядел стройным, подтянутым, со свежим лицом и прямым взглядом.
— Меня опять крупно печатают, — радостно сообщил он и протянул мне свою новую книгу «Верю тебе», изданную в издательстве «Жазушы» тиражом 50 тысяч экземпляров. – Дарю на добрую память.
Книга мне понравилась. В ней были опубликованы очерки о первостроителях и металлургах Магнитки: каменщике Укене Турмагамбетове, бригадире изолировщиов Июле Зубаревой, первом горновом Тюлегене Дюсембаевиче Адам-Юсупове… Очерки положительные, но от жизни, не выдуманные и не вымученные. Как всегда, чувствовалось, что Оськин знает действительность не со стороны, не по вершкам, а изнутри. Но в этой книге уже отсутствовало критическое начало Оськина, будто в жизни с казнокрадами, взяточниками было покончено раз и навсегда…
И при следующей встрече в Караганде Дмитрий мне объяснил:
— А что воевать с ветряными мельницами? Как напишешь критический материал, сразу столько врагов приобретаешь, что хоть стреляйся. Да и толку от критики никакой – пустое это дело. Одни грибы-поганки исчезают, зато другие сразу вырастают. Разуверился я во всякой критике. А вот хороший очерк о человеке напишешь – и на душе легко, что приятное своему герою сделал. И он благодарит тебя до небес…
— А как же быть все-таки с носителями зла в обществе?
Оькин посмотрел на меня удивленно:
— А с ними пусть борются прокуратура, ОБХСС, МВД, те, кто за это зарплату получает. Богу – богово, кесарю – кесарево.
Последующие годы жизни Оськина были спокойными, почти бесконфликтными. Он дорожил своим положением писателя, активно участвовал в общественной жизни.
Казалось, с бунтарем Оськиным покончено раз и навсегда! Ошиблись! В 1990 году в издательстве «Жазушы» выходит новая книга Дмитрия Оськина «Двум смертям не бывать», можно сказать, мемуарного характера. И он рассказывает в ней всю правду о своей жизни в Темиртау, о том, как из него пытались сделать диссидента партийные чиновники и бюрократы региона, да у них ничего не получилось. Перо Оськина, действительно, стало золотым. Он возвеличивает в книге не верхушку стройки, а простых строителей, товарищей-побратимов, чьими руками и умом как раз и возводилась Казахстанская Магнитка.

 Сентябрь 17th, 2015
Сентябрь 17th, 2015
 Опубликовано в рубрике
Опубликовано в рубрике 


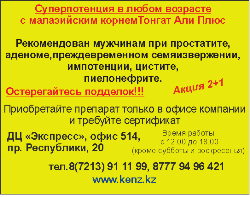

Здравствуйте! Пишет вам дочь Дмитрия Оськина. Мы с мамой хотим поблагодарить автора статьи и газету за статью! Очень приятно, что его помнят. Да он был не только хорошим писателем, но и хорошим мужем и отцом! Большое вам СПАСИБО!!!
Оценить комментарий: 0
0  0
0